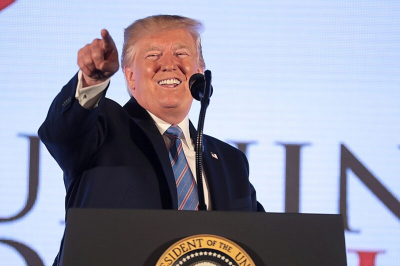Под высоким градусом,
09.07.2025 09:39
Аномальная жара стала уже привычным явлением для Казахстана: на прошлой неделе столбики термометров в южных регионах достигали +47 градусов. Повышение среднегодовой температуры является очевидным следствием глобальных климатических изменений, которые несут разрушительные последствия для здоровья граждан, биоразнообразия и почти всех секторов экономики . Парадоксально, но при всей серьёзности проблемы правительство практически не выделяет средств на реализацию климатических программ. Усугубляет ситуацию и то, что мы являемся крупной угледобывающей страной и отказываться от твердого вида топлива — основного источника углеродного следа — пока не собираемся. Как в этих условиях снижать последствия климатических изменений, в интервью “Времени” рассказала директор департамента климатической политики Министерства экологии и природных ресурсов Сауле САБИЕВА.
- Насколько остро перед Казахстаном сейчас стоит проблема климатических изменений? Можно ли говорить о том, что мы стоим на пороге острого климатического кризиса?
- Ситуация пока не критическая, но климатическая проблема нарастает как снежный ком. В 2023 году зафиксирована самая аномальная жара для нашей страны за последние десятилетия. По данным Всемирной метеорологической организации, в Центральной Азии за последние десятилетия температура воздуха выросла в среднем на 1,5-2 градуса Цельсия, а в Казахстане — на 0,2-0,3 градуса.
Обывателю эти цифры могут показаться незначительными. Но давайте спроецируем их на человеческий организм: как вы будете себя чувствовать, если температура тела от нормы 36,6 градуса поднимется до 37? Примерно так же ощущает себя вся наша экосистема.
Вследствие высокой температуры воздуха тают ледники, что сказывается на снижении уровня Мирового океана, сокращении запасов пресной воды. Преждевременное таяние водоемов чревато паводками, с разрушительными масштабами которых мы уже столкнулись в прошлом году. Засушливая погода приводит к лесным пожарам, деградации земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает продовольственной безопасности.
В целом климатические изменения бьют по нашей экономике, требуя огромных затрат на нивелирование последствий.
- Девять лет назад Казахстан ратифицировал Парижское соглашение по климату, взяв на себя обязательства по сдерживанию роста температуры, а также по снижению к 2030 году выбросов парниковых газов на 15 процентов от уровня 1990 года. Каких результатов удалось достичь с тех пор?
- В 1990-х годах в республике фиксировалось порядка 385 млн тонн выбросов парниковых газов, соответственно, к намеченному сроку мы должны сократить 40 млн тонн, чтобы достичь показателя выбросов 325 млн. А в соответствии с принятой стратегией по достижению углеродной нейтральности Казахстан к 2060-му должен достичь нулевых выбросов парниковых газов.

Сегодня, согласно данным инвентаризации, выбросы парниковых газов составляют порядка 340 млн тонн. Таким образом, уменьшение объёма парниковых газов прямо пропорционально снижению температуры воздуха.
Ежегодно наша страна представляет отчет по принятым обязательствам в секретариате по изменению климата ООН. Чтобы достичь заявленных показателей, полностью пересмотреть свою стратегию должны крупные производства в энергетическом, промышленном, химическом и металлургическом секторах. Они должны внедрять достаточно дорогие наилучшие доступные технологии (НДТ), энергоэффективные технологии и технологии захвата углерода.
И вот здесь начинаются проблемы, упирающиеся в финансы. Поэтому было реформировано экологическое законодательство: с 1 января 2025 года вступила в силу норма, обязывающая топ-50 крупных предприятий внедрять НДТ. Взамен они на 10 лет освобождаются от платы за эмиссию. В то же время 19 социальным ТЭЦ предоставили отсрочку до 2031 года, то есть в течение шести лет они не будут принимать мер по снижению выбросов.
Есть всё-таки некая несогласованность политики: с одной стороны, мы говорим о стратегии углеродной нейтральности, а с другой — строим три новые ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске вместо дальнейшего внедрения альтернативных источников энергии и достижения нулевой углеродной нейтральности.
- Но ведь в углеродном следе львиную долю занимают именно предприятия энергетического сектора…
- 80 процентов, если говорить точнее. Энергетики парируют: уголь — это наше богатство, данное свыше, и нельзя от него отказываться. Тем более у нас резко континентальный климат на большей части территории страны, и возобновляемые источники энергии не обеспечат нужный объём тепла.
Выход — в применении чистых угольных технологий, которые уже активно внедряют в Китае. Но, опять же, они не признаются международным климатическим сообществом. С учетом этих факторов сложно находить баланс, согласовывать с другими министерствами меры и политику по декарбонизации, документ о мерах по снижению выбросов парниковых газов — определяемый на национальном уровне вклад. Но при межведомственной координации мы отстаиваем отраслевые планы по достижению мер декарбонизации, поскольку наши международные обязательства никто не отменял.
- А может, как США, логичнее выйти из Парижского соглашения, отозвать свои обязательства и объявить всемерную поддержку угольной промышленности, раз уж уголь — наше конкурентное преимущество?
- В таком случае Казахстану полностью перекроют финансирование проектов по линии международных финансовых организаций. И тогда можно попрощаться с безопасным климатическим будущим, потому что сегодня из республиканского бюджета на климатические программы деньги практически не выделяются. Климатическое финансирование мы получаем лишь от международных доноров, поэтому только и успеваем подавать заявки на различные гранты и международные программы финансирования. К примеру, недавно на конференции в Баку приняли итоговый документ под названием “Количественная финансовая цель по климату”, в рамках которого развитые страны обязуются ежегодно выделять в общей сложности 300 млрд долларов для развивающихся стран, включая Казахстан. Кроме того, в Дубае создан фонд по потерям и ущербам, где аккумулировано порядка 700 млн долларов.

Такие государства, как Китай, Япония, США, страны Евросоюза, остаются крупными источниками CO2. Казахстан к таковым не относится, потому что доля наших парниковых газов в общемировом объёме составляет менее одного процента. Мы скорее жертва загрязняющих стран, нежели загрязнитель в глобальном масштабе.
- Сколько вообще денег необходимо Казахстану для снижения негативного воздействия климатических изменений?
- Согласно стратегии углеродной нейтральности для достижения нулевого углеродного следа к 2060 году Казахстану потребуется 600 млрд долларов.
Как видите, сумма огромная. Поэтому, уверена, в бюджете должны быть статьи расходов на борьбу с изменением климата, но пока ни Минфин, ни Минэкономики нас не слышат, упуская на самом деле финансовые возможности. Дело в том, что Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития получают средства под низкий процент от Зелёного климатического фонда, Глобального экологического фонда, Адаптационного фонда и других фондов, работающих на достижение мер по климатической и экологической политике.
А казахстанскому бизнесу международные банки выдают кредиты под более высокий процент, поэтому национальным финансовым институтам необходимо привлекать прямое концессионное климатическое финансирование с низкой ставкой. Для этого уполномоченные госорганы должны разработать политику привлечения таких инвестиций. Сегодня это важнейший вопрос в климатической повестке страны. Ведь если мы не будем выполнять все принятые на себя обязательства, то, согласно прогнозам межправительственной группы экспертов по изменению климата, риск климатических угроз может резко возрасти уже к 2030-2040 годам.
Лэйла ТАСТАНОВА, Астана